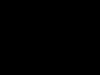Хотя Пушкин и жалуется на безденежье в своих одесских письмах брату и друзьям, однако его материальные дела в эти годы значительно поправились. За «Бахчисарайский фонтан», изданный Вяземским, он получил три тысячи рублей — гонорар в те годы исключительный. В Одессе Пушкин почувствовал себя профессиональным литератором. Издатели просят у него стихов, не скупясь на гонорары. «Слёнин предлагает мне за «Онегина», сколько я хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе — а я думал, что это ошибка географов, — пишет он Вяземскому в апреле 1824 года. — Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о независимости — мне необходимой…»
В конце мая граф Воронцов дал почувствовать Пушкину, что его «независимость» пока что пустая иллюзия. Новороссийский самодержец решил напомнить поэту, что он коллежский секретарь и подведомственный ему чиновник. Пушкин получил официальное предписание графа отправиться в командировку для борьбы с саранчой, появившейся в некоторых уездах Новороссии. Пушкин увидел в этом поручении насмешку над собою, но после личных объяснений с Воронцовым принял командировку и выехал с другими чиновниками на места, где поля были покрыты полчищами прожорливых насекомых. Существует анекдот, будто бы Пушкин написал донесение в стихах:
Саранча летела, летела —
И села.
Сидела, сидела, —
Все съела
И вновь улетела…
Анекдот повторяли с удовольствием. Мемуаристы рассказывают, что Пушкин был в крайнем гневе. Вернувшись из командировки, он решил подать в отставку. В черновике письма к А. И. Казначееву, правителю канцелярии Воронцова, Пушкин писал, между прочим: «Семь лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником…» Он, Пушкин, стихотворец. Это его «ремесло, отрасль честной промышленности», доставляющая ему «пропитание и домашнюю независимость…» Из-за вынужденной жизни в провинции Пушкин терпит убытки как профессиональный литератор. «Правительству угодно было, — пишет он, — вознаграждать некоторым образом мои утраты… Я принимаю эти 700 рублей не так, как жалованье чиновника, но как паек ссылочного невольника…»
Вигель уверяет, что Александр Раевский участвовал в этой интриге и внушил Пушкину, что ему надо принять командировку, а потом подать в отставку. Поведение Александра Раевского в самом деле было двусмысленное. Он питал какую-то дикую, сумасшедшую страсть к Воронцовой. Это вне всяких сомнений. Он был фальшив в своих отношениях к Пушкину. Это тоже несомненно. Его сестра Екатерина Николаевна сообщает, что братец ее притворялся разочарованным демоном, чтобы мистифицировать Пушкина. Поэт, кажется, доверился этой мистификации и увлекся воображаемым героем. Пушкин сам выдумал Александра Раевского. Впоследствии поэт охладел к своему «демону», что не помешало ему принимать участие в хлопотах его семьи, когда Александр Раевский попал в немилость. Однако в ноябре 1834 года в дневнике своем Пушкин шутливо и презрительно записал: «Видел А. Раевского, которого нашел поглупевшим от ревматизмов в голове…»
В середине июня 1824 года в Одессе появилась жена Вяземского, Вера Федоровна. Она приехала с двумя детьми купаться в море. Эта, по выражению Пушкина, «добрая и милая баба» была очарована поэтом. Она была старше его на девять лет. У них в Одессе завязались дружеские отношения. Были даже сплетни, что она «увлеклась Пушкиным». Во всяком случае она была его конфиденткой и сообщала мужу, что Пушкин влюблен в трех женщин сразу. Если первая была Амалия Ризнич, а вторая Е. К. Воронцова, то третья остается для нас неизвестной.
Есть некоторое основание думать, что третья особа, пленившая поэта, была Каролина Собаньская , любовница графа Витта , авантюристка и шпионка, умевшая, однако, несмотря на свою нравственную низость, покорять сердца таких людей, как Пушкин и Мицкевич . Эта искательница приключений не скупилась на самое изысканное кокетство. Почти весь год пребывания Пушкина в Одессе Собаньская жила там, окруженная поклонниками, и многих «дурачила», как она сама в этом признавалась. Пушкину суждено было еще раз встретиться с этой «величавой», но бесстыдною красавицей в Петербурге в 1828-1830 годах.
Приезд в Одессу Веры Федоровны Вяземской совпал с тревожным для Пушкина ожиданием какой-то перемены своей судьбы. Поэт уже знал, что против него ведется сложная интрига, что петербургское правительство получает о нем неблагоприятные сообщения, и все-таки надеялся вырваться из плена.
14 июля Пушкин писал Тургеневу: «Вы уж узнали, думаю, о просьбе моей в отставку; с нетерпением ожидаю решения своей участи и с надеждой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым; дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением, я мог дождаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое…»
Петербургские друзья Пушкина худо понимали положение поэта. Как мог он не поладить с таким просвещенным и блестящим вельможей, каким был граф Воронцов? Вере Федоровне было виднее здесь, в Одессе, что Пушкину ужиться мирно с Воронцовым было мудрено. В своих письмах к мужу она старается объяснить поведение поэта. У Пушкина явились замыслы бежать за границу. Ему взялись помогать две дамы — Вяземская и — как это ни странно — Елизавета Ксаверьевна Воронцова. Этот проект побега стал, конечно, известен очень многим. Даже московский сплетник А. Я. Булгаков писал брату о подготовлявшемся побеге Пушкина за границу. Сам Воронцов сообщил ему об этом. «Мы считаем, писал ему граф о Вяземской, — по меньшей мере неприличным ее затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и шалопаем Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков…» А. Я. Булгаков знал, оказывается, что граф сердит так же и на Елизавету Ксаверьевну за то, что она поддерживает проект В. Ф. Вяземской. Побег не состоялся. Почему?
Пушкин в стихотворении «К морю» делает признания, быть может, откровенные:
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!
Ты ждал, ты звал… я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я…
Министр Нессельроде в письме от 11 июля 1824 года известил графа Воронцова, что по воле императора Пушкин не только будет удален из Одессы, но и, будучи исключен из списков чиновников министерства за дурное поведение, подлежит высылке в Псковскую губернию, в имение родителей под надзор местного начальства.
Месяца через три, уже из Михайловского, Пушкин писал о своем враге П. А. Вяземскому: «Каков граф Воронцов?..»
Полу-герой, полу-невежда,
К тому ж еще полу-подлец!..
Но тут однако ж есть надежда,
Что полный будет наконец.
Одесса. Гавань. Ф. Гросс. 1840-е годы
Примечания
610 Слёнин Иван Васильевич (1789-1836) — поэт-дилетант, с 1817 г. петербургский издатель и книгопродавец. Пушкин был частым посетителем его книжной лавки, где продавались и его произведения.
611 Собаньская Каролина-Розалия-Текла Адамовна (1794-1885, урожд. Ржевусская) — ее первый муж Иероним Собаньский был на 33 года старше жены.
612 Витт Иван Осипович (1781-1840) — граф, генерал-лейтенант, начальник военных поселений Херсонской и Екатеринославской губерний, организатор тайного сыска за декабристами.
613 Мицкевич Адам (1798-1855) — польский поэт, деятель национально-освободительного движения.
614 Булгаков Александр Яковлевич (1781-1863) — чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе (1809-1832), московский почтовый директор (1832-1856).
615 …писал брату — Константину Яковлевичу Булгакову (1782-1835) — петербургскому почтовому директору и управляющему почтовым ведомством (1820-1835).
В августе 1823 года в Одессу прибыл молодой коллежский секретарь, более известный в столичных кругах как опальный поэт, Александр Пушкин. Здесь ему предстояло служить (читай: продолжать ссылку) в коллегии иностранных дел канцелярии губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова.
Положение графа Воронцова в то время было шатким: в Петербурге его считали либералом и потворником свободомыслия. За ним уже приглядывали и доносили в столицу, что он привечает Пушкина, Александра Раевского и других, им подобных. Надо было как-то оправдаться, то есть избавиться от Пушкина.
Хотя Воронцов в близком ему кругу говорил, что при первых же дурных слухах он отправит Пушкина из Одессы, самовольно исполнить такое он не мог — судьбой поэта распоряжался сам император. А тут графу случай помог: он узнал о любовной связи поэта с его женой.
26 марта 1824 года в письме канцлеру России Карлу Нессельроде Воронцов пишет: «…Удаление его (Пушкина) отсюда будет лучшая услуга для него. Я прошу Ваше Сиятельство довести об этом деле до сведения государя и испросить его решения по оному».
Не получив ответа, спустя месяц (2 мая 1824 г.) он вновь пишет канцлеру. На этот раз почти в приказной форме: «…Кстати, повторяю мою просьбу: избавьте меня от Пушкина, это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне не хотелось иметь его в Одессе». Не дождавшись ответа из Петербурга, Воронцов сам принимает решение. Из-под его пера выходит предписание № 7976 от 22 мая 1824 года: «Состоящему в штате моей коллегии иностранных дел г. (господину) коллежскому секретарю Пушкину. Поручаю Вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский и, по прибытии в города Херсон, Елисаветград (ныне -Кировоград — авт.) и Александрию, явиться в тамошние уездные присутствия и потребовать от них сведений: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому «употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные для этого уездными присутствиями. О всём, что по сему Вами найдено будет, рекомендую донести мне».
Как воспринял эту командировку поэт? Пушкин пишет рапорт правителю канцелярии Александру Казначееву: «Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг (отсутствие опыта делопроизводства такого специфического мероприятия — авт.), не знаю, вправе ли отозваться на предложение Его Сиятельства… Знаю, что довольно этого письма, чтобы меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов: но чувствую, что, переменив мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь».
Но смирившись с приказом и по совету Александра Раевского, Пушкин в компании чиновников канцелярии и присутственных мест выехал в Херсон. В архивах сохранилась расписка поэта о получении командировочных (прогонных) денег: «Одесса, Мая 23, 1824 года. По случаю отправления меня для собрания сведений о саранче в Уездах: Херсонском, Александрийском и Елисавет-градском, на уплату прогонов за две почтовые лошади четыреста рублей ассигнациями от Казначея Титулярного Советника Архангельского получил. Коллежский Секретарь Александр Пушкин».
Приезд поэта в Херсон остался почти незамеченным: лишь совсем немногие жители читали его произведения. А для государственных мужей Пушкин был рядовым чиновником, только рангом повыше их. Общение с ним не выходило за рамки оказания ему помощи согласно предписанию Воронцова. 28 мая вернувшийся из командировки Пушкин сдал в канцелярию отчёт в таком виде:
Коллежский секретарь Александр Пушкин.
Первым его прочитал правитель канцелярии полковник Александр Казначеев. Только расстегнутый воротник мундира спас офицера-канцеляриста от удушья, вызванного прочитанным. Дрожащими от гнева и возмущения (стих, рапорт в стихах!) руками он передал «документ» Воронцову. На следующий день губернатор учинил Пушкину унизительный урок о дисциплине и попрании поэтом законов о госслужбе. Спокойно выслушав тираду начальника, Александр задал ему вопрос, на который не получил ответа: «Принесите мне закон, который запрещает подавать рапорт в стихах. Кажется, такого нет. Даже князь Суворов Италийский, граф Рымникский, отправил не наместнику, а самой императрице (Екатерине!!) рапорт в стихах».
Позднее Казначеев изучал документы-отчеты других участников экспедиции: таблицы, расчеты, планы. Осилив страниц 30 одного из рапортов, он попытался сделать вывод. А он был таков, как у Пушкина: сидела, сидела, все съела и вновь улетела. Тряхнув головой, полковник принялся анализировать следующий отчёт и опять: все съела и вновь улетела. Ему стало смешно, и гнев на Пушкина утих. Он понял, что поэт, не имея познаний и опыта в борьбе с этими насекомыми, сделал вывод, что средства уничтожения и предотвращения налета саранчи первобытны. Пушкина он более не тревожил.
Казалось, скандал со стихотворным отчётом Пушкина был забыт. Как вдруг разразился новый. После поездки в Херсон (а может быть, и во время её) поэт, обозленный за попранное достоинство, написал эпиграмму:
«Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда.
Что будет полным наконец».
Одесса гудела. Все поняли, а чей огород поэтом был брошен камень. Дело в том, что Воронцов имел звание полу-генерала (было такое в то время звание) и с нетерпением ждал присвоения полного. Друзья Пушкина, прочитав эпиграмму, встревожились за судьбу поэта. Петр Вяземский срочно пишет Александру: «(Секретное) Сделай милость, будь осторожен на язык и перо. Не играй своим будущим…»
Но было уже поздно. Эпиграмма стала каплей, переполнившей чашу ненависти Воронцова к Пушкину. Поэт пробыл в херсонской командировке не месяц, как полагалось предписанием графа, а лишь одну неделю. Александр поступил так, как и рассчитывал Воронцов: совершил проступок и непослушание. В Петербурге это сочли за дерзость, неблагодарность и дурное поведение. А подав прошение об отставке, Пушкин лишь усугубил своё положение.
Месть Воронцова была иезуитской. Зная болезненную чувствительность поэта и его гордое самолюбие, полу-генерал принудил Пушкина собственноручно написать и подписать обязательство о незамедлительном выезде его из Одессы во Псков, с указанием даты.
Спустя несколько часов в своём кабинете Воронцов прочел донесение одесского градоначальника: «Сегодня (29 июля 1824 г.) Пушкин отбыл отсюда (из Одессы) в город Псков поданному от меня маршруту через Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. На прогоны к месту назначения, по числу верст 1621 (1735 км) на три лошади выдано ему денег 389 руб. 4коп.».
Пушкин и саранча
Саранча летела, летела -
Сидела, сидела, -
Все съела
И вновь улетела…
Пушкин или не Пушкин?
Хорошо известна историческая байка о том, как Пушкин, посланный графом Воронцовым в мае 1824 года наблюдать за размножением саранчи в Херсонскую губернию, вместо официального донесения о своей командировке, сдал в канцелярию лишь издевательский отчет в стихах (см. эпиграф). После объяснений по этому поводу Пушкин пишет заявление об уходе со службы по собственному желанию и отправляется в ссылку в Михайловское.
Командировка Пушкина по делу о саранче занимает в биографии поэта, и в особенности ее южного периода, довольно значительное место. Эта командировка была одним из обстоятельств, ускоривших разрыв Пушкина с графом М. С. Воронцовым и затем высылку его из Одессы в село Михайловское…
Бедствие от неурожая плодов, засухи и саранчи, поразившее территорию Новороссийского края в 1823 и 1824 гг., заставило гр. Воронцова, сейчас же по вступлении в должность Новороссийского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабской области, предпринять ряд мер…
18 марта 1824 г. Комитет министров разрешил приостановить отделку дорог, чтобы освободить от этого помещичьих и казенных крестьян для борьбы с саранчой.
С первых чисел мая со всех концов края стали поступать к гр. Воронцову донесения о том, что саранча начала возрождаться. Наступило время самой напряженной работы. Надо было воспользоваться тем небольшим промежутком времени, когда саранча еще не может летать. Гр. Воронцов, «желая оправдать все ожидания правительства», начал рассылать своих чиновников в разные концы Херсонской губернии, а также, «с высочайшего разрешения», прибег к помощи воинских частей.
С 5 июля стали получаться известия, что саранча в своем движении угрожает Подольской губернии, а с 13 июля начались, наконец, перелеты саранчи, продолжавшиеся и в августе месяце с самыми опустошительными последствиями. Неубранные яровые хлеба погибли.
В Крыму, несмотря на все принятые меры, бедствие приняло еще бо?льшие размеры. «Саранча распространилась в ужасном количестве… Река Салгир была остановлена в течении своем упавшею в нее тучею сих вредных насекомых, и 150 человек несколько дней и ночей работали для очищения протока. Более 300 четвертей собрано оных в одном пункте. Некоторые дома около Симферополя до того наполнены ими, что жители принуждены были выбраться из них». В числе чиновников, командированных гр. Воронцовым на борьбу с саранчой, был и Пушкин.
Многие литературоведы (как и процитированный выше Сербский) гневно отвергают саму мысль, что рапорт в стихах «саранча летела, летела…» мог быть написан Пушкиным в действительности. Но почему бы и нет? Зачем делать из «солнца русской поэзии» безжизненный каменно-моральный памятник? Тогда бы он мог и не стать «нашим всем». Поэт был живым человеком, и давно уже понятно, что «сумасшедший и шалопай Пушкин» (определение из письма графа Воронцова) просто получил на командировку 400 рублей (причем как-то ухитрился выписать себе денег «в три раза больше того, что должен был бы получить»), но в реальности вообще никуда не поехал, а проводил «обследование саранчи» в имении Льва Добровольского, празднуя свой день рождения, попивая венгерское вино и читая гостям хозяина первую главу «Евгения Онегина». Работа по исследованию размножения саранчи проходила у Пушкина напряженно: «отдохнуть поэту не пришлось: до самого вечера носили во флигель бутылки». Вышеприведенные стишки о саранче в поведение «шалопая» вписываются вполне гармонично. Однако нас здесь интересует не этот академический вопрос, а непосредственно сама саранча, до которой Пушкин не доехал. Нашествие ее в Новороссии было в тот год очень серьезным.
В Новороссии со времен Екатерины II земли раздавались колонистам при условии их заселения и устройства на них хорошо поставленных хозяйств. В 1804–1824 гг. поселенцами из Южной Германии и Данцига (Восточная Пруссия) были основаны многочисленные колонии на побережье Черного моря. Известный лютеранский пастор Якоб Штах (Jakob Stach) описывает в своих заметках отчаянную борьбу южнорусских колонистов с саранчой в 1823–1825 гг.:
Уже в первый год поселения (1823) был неурожай. Хотя на полях созревало достаточно злаков, не хватало сена. Падежа скота, к счастью, еще не было. В июне этого года во время сенокоса появилась саранча красного цвета, не летающая, а ползшая со всех сторон по земле, преодолевающая на своем пути все препятствия, даже дома и водоемы, продолжая неуклонно свое нашествие. Через некоторое время в этом же месяце появилась саранча другого вида, серого и зеленоватого цвета, прилетавшая со стороны Азовского моря в затемнявших солнце роях.
В следующем году саранча появилась весной.
Поселенцы пытались немедленно ее уничтожить - еще до линьки и появления крылышек. Для этого крестьяне на рассвете выходили с ситами в степь, собирали при их помощи копошащуюся живность с травы в мешки, которые затем раздавливались копытами лошадей. Но это мало помогало. Вскоре из бывшей Екатеринославской конторы по вопросам иностранных поселенцев пришло указание давить саранчу при помощи давилок из досок, прикрепленных к лошадиной упряжке, как это уже делалось раньше в Бессарабии и под Одессой. Осуществлялось это следующим образом: сразу же после получения указания каждая деревня изготавливала две давилки. Как только вблизи одной из деревень появлялся рой саранчи, жители других деревень округи на рассвете следующего дня шли с упомянутыми давилками и лошадьми (от каждого хозяина по две лошади) к месту нашествия.
Тем не менее, уничтожить саранчу было невозможно. Ущерб от нашествия саранчи в 1824 году в черноморском регионе приобрел такие размеры, что российское правительство было вынуждено предоставить колонистам еще одну отсрочку для выплаты предоставленного кредита.
Но мы также знаем, что в 1824 году зафиксировано как минимум две эпидемии эрготизма. Одна шла в Динабурге (ныне латвийский Даугавпилс). Другая распространялась севернее: «2 августа на Архангельскую губернию обрушилась волна холода и изморозью „повредила хлеб“. К голоду прибавились эпидемии цинги, холеры и „болезнь от употребления хлеба с черными рожками“». Нашествие саранчи в 1823 и 1824 гг. было также на севере Африки (Магриб) и на юге Франции. В 1823 году в Турции, по свидетельству английского путешественника, «нельзя было бросить шиллинг на землю, чтобы не попасть в саранчу».
Параллельно в Швейцарии, неподалеку от Шаффхаузена, был отмечен характерный психоз, напоминающий деревенское помешательство, описанное Короленко. Герман Леберехт Штрак, профессор богословия в Берлинском университете, позаимствовал этот рассказ у Иоганна Шерра. С явным неудовольствием, но стараясь быть беспристрастным, Штрак приводит данный случай в главе «Преступления под влиянием религиозного помешательства»:
Родившаяся в 1794 году дочь крестьянина из Вильдисбуха, Маргарита Петер, с детства склонная к болезненно-религиозной мечтательности, окончательно была сбита с толку мистиком Яковом Ганцем; и 13 марта 1823 г. она вместе со всей своей семьей так усердно сражалась топорами, ломами, косами с сатаной, что в нескольких местах провалился пол. 15 марта она объявила: «чтобы победил Христос, а сатана был окончательно побежден, должна быть пролита кровь!». Затем она схватила железный кол, силой привлекла к себе своего брата Каспара и со словами: «вот видишь, Каспар, злой враг хочет твоей души» нанесла ему несколько ударов в грудь и в голову, так что полилась кровь. Каспара уводит отец; удаляется и еще кое-кто. Оставшимся она сказала: «должна быть пролита кровь. Я вижу дух моей матери, которая приказывает мне отдать жизнь за Христа. А вы хотите ли принести свою жизнь в жертву за Христа? «Да», - ответили все. Ее сестра, Елизавета, кричит: «я с радостью умру для спасения души моего отца и моего брата. Убейте меня, убейте меня!» и бьет себя по голове деревянной колотушкой. Маргарита колотит железным молотком свою сестру, ранит шурина Иоганна Мозера и приятельницу Урсулу Кюндиг и приказывает присутствующим добить Елизавету. Елизавета умирает без единого стона со словами: «Я отдаю свою жизнь за Христа!»
Затем Маргарита говорит: «должна быть пролита еще кровь. В моем лице Христос поручился своему Отцу за много тысяч душ. Я должна умереть. Вы должны меня распять». Молотком она ударила себе в левый висок, так что потекла кровь. Иоганн и Урсула наносят ей еще удары, делают бритвой крестообразный надрез на шее и на лбу. «Теперь я хочу, чтобы вы пригвоздили меня ко кресту, и ты, Урсула, должна это сделать. Поди ты, Цези (сестра Сузанна), и принеси гвоздей, а вы пока приготовьте крест». Руки и ноги жертвы пригвождаются к кресту. Силы опять изменяют распинающей. «Дальше, дальше! Пусть Господь укрепит твои руки! Я воскрешу Елизавету и сама на третий день воскресну». Снова раздаются удары молотка: в обе груди жертвы вколачиваются гвозди, также в левый локоть, затем Сузанна приколачивает и правый.
«Я не чувствую никакой боли. Будьте только вы сильны, чтобы победил Христос». Твердым голосом приказывает она пробить ей гвоздь или вонзить нож через голову в сердце. В диком отчаянии бросаются на нее Урсула и Конрад Мозер и разбивают ей - первая молотком, второй долотом - голову. В воскресенье, 23 марта, приверженцы Маргариты пришли на богомолье в Вильдисбух. Один соскреб кровь с постели, выломал кусочек штукатурки, запятнанный кровью, из стены комнаты и старательно завернул эти реликвии.
Вздохнув, доктор богословия вынужден признать, что вышеизложенное немецким историком литературы Шерром «воспроизведено точно по сохранившимся в Цюрихе документам». И посетовать: «к сожалению, автор много повредил своей книге богохульными нападками на Библию, особенно на Ветхий Завет, и на христианскую религию». В словаре Брокгауза и Ефрона это событие называлось «Вильденспухское распятие» и трактовалось как «одно из поразительных проявлений религиозного помешательства». Но все же, как бы ни относится к христианству, описание не выглядит просто религиозным психозом. Скорее, религия здесь задала лишь вектор, «установку» этого психоза.
Почему все это происходит одновременно? Могут ли психозы, эрготизм и саранча быть как-то связаны? Ряд уже отмеченных совпадений пока еще можно списать просто на случайность, поэтому посмотрим, известны ли другие подобные случаи синхронности в более близкое к нам время.
Из книги Русский литературный анекдот конца XVIII - начала XIX века автора Охотин НА. С. Пушкин Воспитанникам Лицея было задано написать в классе сочинение: восход солнца (любимая тема многих учителей словесности, преимущественно прежнего времени). Все ученики уже кончили сочинение и подали учителю; дело стало за одним, который, будучи, вероятно,
Из книги Александр Пушкин и его время автора Иванов Всеволод НиканоровичГлава 22. Пушкин строит «Современник» Пушкин всю недолгую жизнь свою думал не только о поэзии, о личном литературном творчестве, но и о печати как о средстве распространения литературы и науки в человеческих массах. Отличный практик, заботливый хозяин, он и Девять Муз
Из книги Исторические портреты автора Из книги А.С. Пушкин автора Ключевский Василий ОсиповичА.С. Пушкин А. С. Пушкин. Литография с портрета работы О. КипренскогоДля чего мы празднуем юбилейные годовщины великих деятелей нашего прошлого? Не для того ли, чтобы питать национальную гордость воспоминаниями о своих великих поколениях? Едва ли. Национальная гордость –
Из книги Книга Перемен. Судьбы петербургской топонимики в городском фольклоре. автора Синдаловский Наум АлександровичПушкин 1703. На том месте, где ныне расположен город Пушкин, в допетербургские времена находилась шведская Сарская мыза, или Saris hoff, что значило «возвышенное место». Правда, легенды возводили это название к имени какой-то «госпожи Сарры» – по одной версии, и «старой
Из книги История русской литературы XIX века. Часть 1. 1795-1830 годы автора Скибин Сергей МихайловичГлава 7 А.С. Пушкин 1799–1837 Александр Сергеевич Пушкин завершил все предыдущее литературное развитие русской литературы и открыл новый этап ее исторического движения. Пушкин – первый русский художник, осознавший писательство как творение красоты. Отсюда
Из книги Победы и беды России автора Кожинов Вадим ВалериановичГлава третья ПУШКИН И ЧААДАЕВ. К ИСТОРИИ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ Понимание творчества Поэта в его взаимосвязи с творчеством крупнейшего мыслителя эпохи имеет, как представляется, первостепенное или даже, пожалуй, исключительное, уникальное значение для понимания
автора Эйдельман Натан Яковлевич Из книги Тайные корреспонденты "Полярной звезды" автора Эйдельман Натан ЯковлевичГлава IX ПОТАЁННЫЙ ПУШКИН 1. В «Полярной звезде» цитата приведена неточно. Надо: «Кланяйтесь от меня цензуре, старинной моей приятельнице; кажется, голубушка еще поумнела» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 38). Однако иронический смысл пушкинского
Из книги Умирание искусства автора Вейдле Владимир Васильевич Из книги От сентиментализма к романтизму и реализму автора Пруцков Н ИА. С. Пушкин Жизненный путь Пушкина был недолог и безмерно трагичен. Начавшись на пороге бурного XIX века (1799), он оборвался в самом начале 1837 г., в преддверии демократического подъема русской литературно-освободительной мысли, еще не оправившейся тогда от потрясения,
Из книги Слово о полку Игореве - подделка тысячелетия автора Костин Александр Георгиевич Из книги Россия: народ и империя, 1552–1917 автора Хоскинг ДжеффриПушкин Первым литературным трудом, вызвавшим искреннее восхищение Белинского, увидевшего в нем воплощение своих представлений о литературе, стал «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «энциклопедия русской жизни». Характерно, что критик хвалил поэму за познавательные
Из книги Из истории русской, советской и постсоветской цензуры автора Рейфман Павел СеменовичГлава четвертая. Тягостное благоволение (поэт Пушкин и император Николай). Часть первая Даже царь приглашал его в дом, Желая при этом Потрепаться о сем, о том С таким поэтом ……………………. Любил бумагу марать Под треск свечки. Ему было за что умирать У Чёрной
Из книги Россия в исторических портретах автора Ключевский Василий ОсиповичА.С. Пушкин Для чего мы празднуем юбилейные годовщины великих деятелей нашего прошлого? Не для того ли, чтобы питать национальную гордость воспоминаниями о своих великих поколениях? Едва ли. Национальная гордость – культурный стимул, без которого не может обойтись
Из книги Мифы и загадки нашей истории автора Малышев ВладимирПушкин для крестьян Грамотность была широко распространена в русской деревне еще в более ранние времена. Так, по переписи 1785 года в одиннадцати волостях Архангельской округи 17,1 проц дворов имели грамотного мужчину, в Холмогорской округе – 18,6 проц. И не случайно, что
В мае 1824 года Александра Сергеевича Пушкина, отбывавшего южную ссылку в Одессе под надзором графа Воронцова, неожиданно командировали на борьбу с саранчой. Весной 1824 года на южные губернии России действительно обрушились полчища насекомых. Пушкину, получившему из канцелярии Воронцова 400 рублей, было велено отправиться в Херсонский, Елисаветградский и Александровский уезды и выяснить, насколько успешно проходит борьба с вредителем. Вернувшись, Александр Сергеевич представил графу отчет, после чего был уволен с государственной службы и переведен отбывать ссылку в Михайловское.
Граф Воронцов, губернатор Новороссийского края, слыл человеком либеральным и справедливым. Пушкин, находившийся в Кишиневе, узнав о его назначении, стал писать прошения о переводе в Одессу. При помощи друзей поэту удалось добиться своего. Узнав о предписании ехать в Херсон, Пушкин вспылил и даже написал рапорт главе канцелярии, уверяя, что подобные дела чужды ему. Кроме того, Пушкин не числился в штате Воронцова и даже деньги на свое содержание получал из другого ведомства, поэтому граф, по сути, не имел права отправлять поэта в командировки. Тем не менее Пушкин внял советам друзей и 23 мая 1824 года с двумя батальонами солдат отправился в Херсон.
Согласно бумагам, сохранившимся в одесских архивах, командировка Пушкина, как и всех других чиновников, отправленных на борьбу с саранчой, должна была быть довольно продолжительной — около месяца. Однако Пушкин вернулся уже через пять дней, получив при этом в три раза больше стандартной платы чиновникам. Это любопытное обстоятельство до сих пор удивляет биографов поэта. Кроме того, почему в командировку был отправлен Пушкин, не имевший опыта в подобных делах? Известно, что Воронцов весьма серьезно отнесся к истреблению саранчи, он даже писал об этом в своих мемуарах. Ходили слухи, что граф Воронцов нарочно придумал это распоряжение именно для поэта, так как был крайне обеспокоен слишком теплыми дружественными отношениями Пушкина со своей женой Елизаветой Воронцовой. Поэт был частым гостем в салоне графини, писал ее многочисленные портреты в своих рукописях. Подтверждают данное мнение и настойчивые просьбы Воронцова выслать Пушкина из Одессы, которые император не спешил выполнять. Существует предположение, что в середине мая жена Воронцова пригласила Пушкина отправиться с ними на яхте из Одессы в Крым. Яхта уже стояла в порту Одессы и ждала гостей, однако сам граф под предлогом болезни детей откладывал поездку, а затем отправил поэта «на саранчу», в надежде, что во время длительной командировки придет приказ о переводе Пушкина из Одессы, когда семья графа будет уже в Крыму.
САРАНЧА
Коллежский секретарь Александр Пушкин.
Этот «отчет» является не более чем анекдотом, по мнению исследователей жизни поэта. Хотя об этих стихах упоминает В.З. Писаренко, губернский секретарь, служивший в канцелярии графа.
Известно, что поэт был очень раздосадован командировкой, возможно, видел в этом назначении попытку Воронцова унизить его, так как все другие чиновники, брошенные на саранчу, были намного ниже его рангом. После поездки в Херсон Пушкин написал неприятную эпиграмму на Воронцова. Тот настоял, чтобы поэт немедленно написал обязательство о скорейшем выезде из Одессы.
В защиту Пушкина высказывалась жена Вяземского, Вера Федоровна, которая писала, что Александр Сергеевич виноват лишь в ребячествах, что повиновался предписанию отправиться на борьбу с саранчой, а просил отставки потому, что чувствовал себя оскорбленным.
11 июля 1824 года из Петербурга пришел приказ императора о том, что Пушкин будет удален из списков чиновников министерства за свое поведение и выслан в Псковскую область в Михайловское, имение своих родителей.
Существует версия, что истинная причина высылки Пушкина из Одессы в Михайловское состояла не в разладе отношений между Пушкиным и Воронцовым, не в увлечении женой графа, не в том, что во время южной ссылки поэт увлекся атеизмом, о чем подробно сообщал в письмах своим друзьям, а в том, что Пушкин на юге опасно сблизился с декабристами, и об этом факте было прекрасно известно императору Александру.
Тринадцать веселых месяцев, проведенных Пушкиным в Одессе, окончательно закрывают для него границы. После одесских событий он не может выезжать даже за границы Псковской губернии.
3 июля 1823 года Пушкин переезжает в Одессу под начало генерал-губернатора графа Воронцова. В те времена Одесса — второй по-настоящему европейский город России: динамичный, с беспошлинной торговлей и светскими развлечениями. Первые месяцы беспечны. Пушкин гуляет по бульварам, пьет кофе в кофейне Пфейфера на Дерибасовской (по-восточному, с гущей), обедает в ресторане Цезаря Отона, заказывая черноморских устриц и шампанское, посещает оперу и частенько заканчивает свой день в казино (как тогда говорили в «каз´ино»). Проблема пока одна — финансовая. Служба приносит скромные 700 рублей в год серебром, а папенька ничего не присылает. В гардеробе Пушкина появляются архалук (узкий кафтан), феска и трость, сделанная из ружейного ствола, которая весит 3,6 килограмма. На обычную трость и новый цилиндр у молодого бедного дворянина не хватает денег.
Вокруг поэта много прекрасных женщин, которым он посвящает около 30 лирических стихотворений. Он увлекается то «молодой негоцианткой» Амалией Ризнич, то красавицей-полькой Каролиной Собаньской и, в конце концов, попадает под чары Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой — жены генерал-губернатора. С самим графом Пушкин произносит «четыре слова за две недели».
Воронцов недоволен праздностью молодого чиновника и раздражен: «…я писал к гр. Нессельроде (министру иностранных дел, имевшему влияние на Александра I. — Прим. «Вокруг света»), прося, чтоб меня избавили от поэта Пушкина…» Александр Сергеевич действительно служит спустя рукава: рвения не проявляет, от поручений уклоняется. Тем временем князь Вяземский публикует «Бахчисарайский фонтан» и высылает Пушкину немыслимый по тем временам гонорар — 3000 рублей, четыре его годовых жалованья! Считается, что с этого момента в России начинается профессиональная литература. До того литераторы получали от издателей в среднем по 500 рублей за книгу. Получив деньги, поэт раздает долги с балкона гостиницы одесским извозчикам — без малого 2000 рублей.
В дело некстати вмешивается и друг поэта — Александр Раевский. Безнадежно влюбленный в Воронцову, он убедил генерал-губернатора отправить поэта «на саранчу» — проверять уезды, подвергшиеся нападению прожорливых насекомых. По возвращении вместо отчета тот пишет Воронцову: «Саранча летела, летела и села; сидела, сидела, все съела и вновь улетела». Разразился скандал, Пушкин подает в Петербург прошение об отставке. Ответ приходит через месяц. Александру Сергеевичу предписано ехать в Михайловское, минуя Киев, Москву и Петербург. На прощание Елизавета Воронцова дарит поэту перстень. «Храни меня, мой талисман…» именно о нем. 1 августа 1824 года Пушкин покинул Одессу, чтобы осесть на два года в Михайловском.
Дерево для дамы
Екатерина Ергеева, научный сотрудник Одесского литературно-мемориального музея А.С. Пушкина С именем поэта в Одессе связано несколько забавных историй.
История первая.
Пушкин и лопата . Рассказывают, что Пушкин посадил в Одессе несколько деревьев. В качестве доказательства скромные одесситы предъявляют платан на Приморском бульваре и тополь под окнами дома Амалии Ризнич.Нескромные же одесситы уверяют, что Пушкин сажал деревья под окнами всех симпатичных ему дам. Но ни одному пушкинисту, даже одесситу, не хватает фантазии, чтобы представить поэта с лопатой!
История вторая. Пушкин и калоша. На Думской площади одессит расскажет, что здесь Пушкин потерял калошу. В те времена в Одессе действительно бывало грязно — город только начинали мостить. Так что Пушкин мог потерять на одесских улицах и не одну калошу.
История третья. Пушкин и тень. Думали поставить бронзовую фигуру Пушкина на балконе гостиничного номера в доме Рено, где поэт прожил больше года. Однако дом перестроен, балкона не осталось, а восстанавливать его да еще ставить памятник — слишком дорого. Ходят слухи, что нашли недорогое решение — нанести на тротуар у здания тень поэта, стоящего на балконе. Сейчас идет обсуждение: хороша ли идея и получится ли оградить «тень поэта» от ног прохожих.